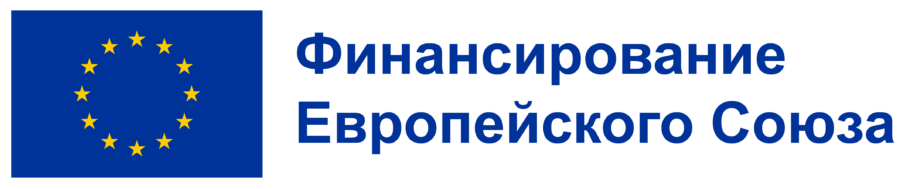«Все может случиться в Кишиневе, где самый воздух еще весь насыщен дикой враждой и ненавистью». Кишиневский погром 1903 года

Кишинёвский погром — один из самых известных еврейских погромов в Российской империи, произошедший при попустительстве властей 6 — 7 апреля 1903 года в Кишинёве. Во время погрома было убито 41 человек, искалечено около 600, повреждено около 1⁄3 всех домостроений города.
В. Короленко, прибывший в Кишинёв спустя два месяца после погрома, описал в очерке «Дом № 13» некоторые сцены погрома. #diez представляет вам пару цитат и из данного очерка, а также фрагмент из книги в «Скорбные дни» М. Б. Слуцкого.
«Все может случиться в Кишиневе, где самый воздух еще весь насыщен дикой враждой и ненавистью. Жизнь города как бы притихла. Постройки приостановились: евреи охвачены страхом и неуверенностью в завтрашнем дне».
«Но мне хочется все-таки поделиться с читателем хоть бледным отражением этого ужаса, которым пахнуло на меня от моего короткого пребывания в Кишиневе, спустя два месяца после погрома. Для этого я попытаюсь восстановить, по возможности точно и спокойно, один эпизод. Это будет история знаменитого ныне в Кишиневе дома No 13».
«Дом No 13 похож на мертвеца: он зияет на улицу пустыми окнами с исковерканными и выбитыми рамами, с дверьми, заколоченными кое-как досками и разными обломками…
Двор еще носит выразительные следы разгрома: весь он усеян пухом, обломками мебели, осколками разбитых окон и посуды и обрывками одежды. Достаточно взглянуть на все это, чтобы представить себе картину дикого ожесточения: мебель изломана на мелкие щепки, посуда растоптана ногами, одежда изодрана в клочья; в одном месте еще валяется оторванный рукав, в другом — обрывок детской кофточки. Рамы с окон сорваны, двери разбиты, кое-где выломанные косяки висят в черных впадинах окон, точно перебитые руки.
В левом углу двора, под навесом, у входа в одну из квартир, еще виднеется ясно большое бурое пятно, в котором нетрудно узнать засохшую кровь. Она тоже смешана с обломками стекла, с кусками кирпича, известкой и пухом.
Здесь убивали Гришыпуна…—сказал кто-то около нас странным глухим голосом.
Когда мы входили в этот двор, все было здесь мертво и пусто. Теперь рядом с нами стояла девочка лет 10—12.
Он вот тут… бежал… — говорила она, тяжело переводя дыхание, показывая рукой по направлению к навесу и луже крови.
— Кто это? Стекольщик?—спросил мой спутник.
— Да-а… Стекольщик. Он бежал сюда… и он упал вот здесь… и тут они его убивали…
С невольным ощущением дрожи мы отошли от этого пятна, в котором кровь перемешалась с известкой, грязью и пухом.
В доме все было разрушено с таким же старанием, как и во дворе: сорваны обои, выломаны двери, разломаны печи, стены пробивались насквозь».
«Дом No 13 состоял из семи квартир, в которых, по обыкновению, скученно и тесно жило восемь еврейских семей, всего около 45 человек (с детьми). Хозяин его был Мовша Маклин, комиссионер и владелец скромной лавки в городе. На всех своих предприятиях, то есть в качестве домовладельца, коммиссионера и лавочника, он получал 1500 рублей в год. Среди остальных обитателей дома он, конечно, должен был считаться богачом и счастливцем. Сам он, впрочем, в доме No 13 не жил, но одну из квартир занимала дочь его с мужем и детьми.
Один из видных жильцов был мелкий лавочник, Навтула Серебрянник. Лавка его была в самом углу. Теперь ее можно узнать по обломкам деревянных ларей, составлявших прилавок и валяющихся на грязном полу среди ободранных стен.
Затем в доме жили еще: приказчик галантерейной лавки Берлацкий, с женой и четырьмя детьми. Он зарабатывал 48 руб. в месяц. Нисензон, человек лет 46, был бухгалтером, то есть ставил бухгалтерские книги и заводил денежную отчетность. Эту, отчасти ученую, профессию он выполнял сдельно, вырабатывая рублей 25—30 в месяц. Мовша Паскар служил приказчиком, получал рублей 35. У него была жена Ита и двое детей. Ицек Гервиц был служителем больницы, но в последнее время, кажется, бедствовал, оставшись без места. Мовша Туркениц имел столярную мастерскую, в которой держал трех рабочих, а Бася Барабаш торговала мясом. Наконец, стекольщик Гриншпун ежедневно отправлялся с оконными стеклами и возвращался вечером домой со своим заработком.
Цифры взяты из показаний потерпевших и их родственников. Из них видно, какими богачами был населен дом No 13».
«Около 10 часов утра появился городовой „бляха No 148”, человек хорошо, конечно, известный в данной местности, который, очевидно, заботясь о судьбе евреев, громко советовал всем им спрятаться в квартиры и не выходить на улицу».
«Они стали бегать кругом по крыше, перебегая то в сторону двора, то появляясь над улицей. А за ними бегали громилы. Берлацкого первого ранил тот же сосед, который нанес удар Гриншпуну. А один из громил кидал под ноги бегавших синий умывальный таз, который лежал на крыше еще два месяца спустя после погрома… Таз ударялся о крышу и звенел. И, вероятно, толпа смеялась…
Наконец всех троих кинули с крыши. Хайка попала в гору пуха во дворе и осталась жива. Раненые Маклин и Берлацкий ушиблись при падении, а затем подлая толпа охочих палачей добила их дрючками и со смехом закидала горой пуха… Потом на это место вылили несколько бочек вина, и несчастные жертвы (о Маклине говорят положительно, что он несколько часов был еще жив) задыхались в этой грязной луже из уличной пыли, вина и пуха.
(…)
Последним убили Нисензона. Он с женой спрятался в погребе, но, услышав крики убиваемых и поняв, что в дом No 13 уже вошло убийство и смерть, они выбежали на улицу. Нисензон успел убежать во двор напротив и мот бы спастись, но за его женой погнались громилы. Он кинулся к ней и стал ее звать. Это обратило на него внимание. Жену оставили и погнались за мужем; он успел добежать до дома No 7 по Азиятскому переулку. Здесь его настигли и убили. При этом называют две фамилии, одна с окончанием польским, другая молдаванская. Перед Пасхой шли дожди, в ямах и по сторонам улиц еще стояли лужи. Нисензон упал в одну из таких луж, и здесь убийцы, смеясь, „полоскали” жида в грязи, как полощут и выкручивают стираемую тряпку».
«В пять часов этого дня стало известно, что „приказ”, которого с такой надеждой евреи ждали с первого дня, наконец, получен…»
Отрывок из книги в «Скорбные дни» М. Б. Слуцкого
«Не имея своих представителей в думе, евреи обращались со своими нуждами и ходотайствами непосредственно а К. А. Шмидту и неизменно находили в нем стойкого защитника своих прав».
(…)«Погром оканчательно надломил его силы. Когда зазразился погром, евреи по обыкновению прибежали к своему постоянному заступнику Карлу Александровичу Шмидту, и этоот когда-то сильный и властный человек разрыдался, как ребенок, сознавая свое бессилиею Все же он делал, что мог. Уже 9 апредя Шмидт созвал чрезвычайное собрание думы, которая под его давлением послала телеграфное настойчивое ходатайство Плеве о принятии решительных мер против повторения безпорядков. К. А. открыл подписку а пользу пострадавших евреев и внес свою ленту. Он посещал больницы, обходил раненых и увечных и говорил им слова утешения. Он справлялся о нуждах больницы и по мере возможности удовлетворял их.
А атмосфера в городской думе все сгущалась. На арену выступил новый гласный, „знаменитый” Крушеван (журналист, прозаик, публицист праворадикального толка, известный как активный черносотенец), и он обвинял и думу и управуи косвенно самого городского голову в безхзяйственности и даже в злоупотреблениях.
Привыкший в течение многих лет к всеобщему и вполне им заслуженному уважению, К. А., обессиленный, не мог выдержать этих грязных нападков и 14 сентября 1903 г. через 5 месяцев после погрома, подал в отставку, не закончив срока своих полномочий.
И дума отставку приняла!
Постепенно стали забывать о К. А…
Последние годы своей жизни К. А. провел вдали от общественной работы, прикованный болезнью к постели».