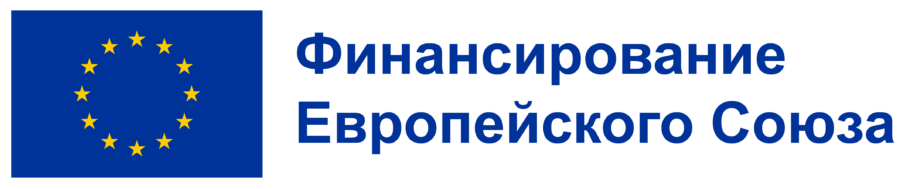«У солнца был вкус, цвет, запах». Отрывок из рассказа о Кишиневе, написанного Мариной Степновой

Марина Степнова родилась 2 сентября 1971 года в Тульской области. В 1981 году ее семья переехала в Кишинев. Здесь она окончила школу и проучилась первые три курса на филологическом факультете в Молдавском государственном университете. После чего переехала в Россию.
В 2005 году вышел первый роман М. Степновой — «Хирург», в 2011 году — второй роман «Женщины Лазаря». Третий роман «Безбожный переулок» вышел в 2014 году. Роман «Женщины Лазаря» переведён на 26 языков.
Она перевела с румынского языка пьесу Михаила Себастьяна «Безымянная звезда». В переводе Марины Степновой пьеса неоднократно ставилась в театрах России и Украины.
«Сноб» опубликовал отрывок из рассказа «Белый унитаз» Марины Степновой — о том, как в детстве она попала из маленького городка в Тульской области в царство красок и изобилия — Кишинев.
Отрывок из рассказа «Белый унитаз»
Первое, что я увидела и запомнила, было солнце.
У солнца был вкус, цвет, запах, тяжелый и нежный нажим. Оказывается, оно было таким. На несколько месяцев это слово (даже не слово, а ощущение) стало для меня главным — оказывается.
Оказывается, розы росли прямо на улице — белые, красные, чайные, даже черные, — честное слово, непроницаемо черные на отворотах и обшлагах, бархатные, как кошачья шкурка, и горьковатые на вкус. Белые лепестки, если разжевать, были кисловатые, прохладные. А из розовых — варили варенье. Еще из белой черешни. И из помидоров. Но самое вкусное варенье оказалось из абрикосов, целеньких, полупрозрачных, светящихся, внутри каждого — словно эмбрион, упругая косточка. Абрикосы, кстати, тоже росли на улице. И персики — правда, несъедобные, маленькие, густо-фиолетовые, плотно-шерстяные, как будто войлочные. Декоративные. Шелковица марала бульварные тротуары — белая, черная. Оказывается, бульвары — тоже были, и проспекты, и Комсомольское озеро с каскадом фонтанов, сбегающих от белой ротонды на вершине холма к самой воде, покачивающей нарядные лодки. Летом, вечерами, фонтаны подсвечивали радостным, разноцветным, а в ротонде играл духовой оркестр. Еще был театр, нет, три театра и один цирк, а еще — зоопарк и самая настоящая беломраморная триумфальная арка, перемигивающаяся через площадь с красным, гранитным Лениным и средневеково-бронзовым, зеленоватым, в патину, Штефаном чел Маре.
Это вообще были цвета Кишинева (а заодно и молдавского флага) — красный, белый, зеленый. Красное вино, красные помидоры, белые, сказочные, сложенные из котельца домики в центре, каждый словно воткнули в охапку зелени.
Армянская. Болгарская. Угол Ленина.
Степенный, старинный город к окраинам дичал, становился совсем уже простодушным, деревенским. Можно было стукнуть в любую калитку, попросить попить. Хозяин выходил с кувшином домашнего вина, выросшего и вызревшего тут же — бусуйок и шасла кудрявили крышу навеса, в подвале круглили крепкие животы ростовые бочки. Стакан выносился один-единственный, из него степенно пил сперва хозяин, потом — по очереди — все жаждущие. Законы южного гостеприимства. Вино пачкало губы и языки, детям его, поразмыслив, разбавляли водой до акварельной бледности. Брехали собаки, в воздухе дрожала веселая золотая мошкара, птицы к вечеру неосторожно пробовали соперничать с цикадами.
Все пахло, пело, лопалось, переливалось, жило.
Это был шок — только не культурный, а физиологический.
Мне как будто выдали все органы чувств сразу. Больше всего я ошалела от еды. Самое смешное, что я была с младенчества малоежка — список того, что я отказывалась употреблять в пищу, приближался к списку всего съедобного вообще, мама ухищрялась, как могла, пытаясь затолкать в меня хоть что-то, помимо соленых огурцов и молочных сосисок. Последние в Ефремове не водились в принципе и добывались родителями во время командировок в Москву — несколько раз в год. Оставшееся время я держалась только на огурцах.
Но в Кишиневе еда оказалась явлением эстетическим.
Новеньких, нас без конца приглашали в гости, тарелки ставились на стол по-южному — в два ряда: синенькие, красненькие, синенькие с красненькими, лук нарезать мелко-мелко, добавить, перемешать, перцы печеные — с уксусом и чесночком, перцы фаршированные, помидоры — тоже фаршированные, мамалыга (режется ниткой) со сметаной, с брынзой, со шкварками, просто — сама с собой, костица, мититеи, зама, муждей.
Я научился вам, блаженные слова.
Плацинды продавались на каждом углу — жареные, жирные, за 16 копеек, в промасленной бумажке; взбитые сливки в кафе «Гугуцэ» посыпали тертым шоколадом и выдавали лакомкам столовую ложку, серую, алюминиевую, легкую. Всего за пару часов можно было выстоять любой из десятка сортов колбасы (копченая тоже наличествовала!), буженина и пастрома лежали, развалясь, на витринах, цена, даже стыдливо указанная за сто грамм, поражала воображение, но любая хорошая хозяйка умела приготовить не хуже. Мясо запекали в хлебе, в перце, в соли, в дефицитной фольге. В овощном на проспекте Ленина прямо в зале стояла настоящая крестьянская телега — груженная живыми тыквами, синеглазой картошкой, помидорами, сухими связками лука и чеснока.
А центральный рынок? Ряды солений (оказывается, арбузы бывают мочеными, а перцы — квашеными), мешки орехов (оказывается, бывают молодыми, беленькими, похрустывающими на зубах), километры овощей и фруктов (оказывается, продаются ящиками и ведрами), крестьяне за прилавками — самые настоящие, некоторые даже в кушмах! Один ежегодно, в августе, привозил яблоки размером с хороший мячик — каждое весило не меньше шестисот грамм и на свет, разрезанное, было совершенно прозрачным. Под каждой веткой три подпорки стоит — хвастался хозяин.
Задастые кишиневские матроны, деликатно отставив мизинчик, лакомились смрадной овечьей брынзой, выкладывали на тыльную сторону ладони завитки густой сметаны, золотистый, вполне мандельштамовский мед.
Да вы кушайте, кушайте, пробуйте, не стесняйтесь.
Розовое «бычье сердце», зеленоватый «дамский пальчик», лиловый «кардинал».
Гаргантюа и Пантагрюэль из зачитанной книжки стремительно наливались жизнью, превращались в правду, бугрили громадные, розовые, до самого кишиневского неба брюхи и зады.
Все вокруг ели, орали, смеялись, ссорились — и снова смеялись.
Я была даже не счастлива — ошеломлена. А еще: в Кишиневе не говорили — пели. Украинские, молдавские, еврейские, цыганские словечки путались под ногами, ластились, прыгали, норовили лизнуть в лицо. Чужой незнакомый язык был всюду, я ухнула в него солдатиком, с головой.
Кириллица не спасала, а только сбивала с толку, потому что привычные буквы складывались в непривычные слова — бомбоане, мэй, мэрцишор, че те лежень, кодруле, фэрэ плоайе, фэрэ вынт, ку кренжиле ла пэмынт. И вот еще невероятное, синемордое, в оранжевых усах, прямо на вывеске — ынкэлцэминте! Оказывается, слова могли начинаться на «ы». Оказывается, ынкэлцэминте обозначало просто — обувь. Еще были слова, которые смешно притворялись русскими, — пошта, фрукте, спиняуа, а были и просто русские, но тоже смешные, потому что произносились забавно, на протяжный взмывающий распев. Даже сейчас, спустя, страшно сказать, сколько московских лет, я мгновенно слышу в чужой речи эту маленькую южную музычку — и бросаюсь навстречу, распахнув руки, радуясь, хотя уехала из Кишинева в девятнадцать лет, кляня все, что так полюбила в десять, — шум, жару, солнце, крикливое, радостное обжорство, все эти миорицы и мэрцишоры, збоаре албинуца, зум-зум-зум.
Де унде сынтець думнявоастрэ?
Вы откуда?
Пауза. Улыбка. Недоверие. Родство. Выпуклая радость узнавания.
Кишинэу. Тираспол. Бендеры. Орхей.
На московских рынках меня обсчитывают редко.
Как-то раз я услышала родной мелодичный говорок даже в Италии, совсем в глуши, в придорожной харчевне, и выдала юной, глазастой официантке привычное «де унде сынтець». Она вдруг застыла — вся, даже пальцы и лицо, развернулась и убежала в ресторан, оставив нас с мужем на террасе в тревожном недоумении.
Обиделась? Но я же ничего плохого не сказала, честное слово. И она точно из Молдавии. Я не могла ошибиться. Точно не могла.
И не ошиблась.
Официанточка вернулась — и не одна, с маленькой женщиной в белой поварской куртке, смуглое, дубленое лицо, светлые глаза в черных ресницах, круглый маленький подбородок, идеальный, монетной четкости, нос. В Молдавии я видела таких много, очень много. Когда-то здесь действительно был Рим.
Это моя мама. Она работает на кухне, повар. Мы кишиневские. А вы откуда? Тоже Кишинев. А где жили? Мы на Малой Малине. А я с Новых Чекан. Я встала, села, снова встала — растерянная, счастливая почему-то даже больше, чем они, собравшая все драгоценные обломки когда-то живого, послушного молдавского. И несколько минут с южной трассирующей скоростью мы наперебой вспоминали посреди тосканского нигде 56-ю школу, вокзал, проспект Молодежи и магазин «Марица», парк Победы и Пушкина, стефании и муст, а вы на каком троллейбусе добирались? Я на шестнадцатом. А нам недалеко было — мы пешком.
На прощание мы обнялись, и римская мать-волчица из Кишинева ушла на свою кухню варить итальянскую пасту для европейских туристов. А ее дочь, официанточка, догнала нас возле самой машины и сунула мне что-то небольшое, горячее, твердое.
Это вам. На память. Простите, больше просто нету ничего. Чтоб подарить.
Это был маленький белый пластмассовый унитаз.
Я щелкнула кнопкой, крышка распахнулась, запрыгал невидимый, почти крошечный огонек. Зажигалка.
Мулцэмеск фрумос. Ла реведере.
Ла реведере.
Мы обнялись еще раз. Будто и правда — родные, случайно встретившиеся на чужбине. Официанточка вдруг схватила меня за руку и испуганно сказала по-русски — вы же еще приедете? Да? Пожалуйста, приезжайте!
Мы не приехали.
Но унитаз жив до сих пор. Стоит на полке, изрядно уже пошарпанный, безнадежно китайский. И до сих пор при нажатии дает огонь, а если подождать немного, то и маленькое, робкое, но все еще южное тепло.